От
Редакции
Ознаменованный
величайшим напряжением политических сил Европы, 1912-й год знаменателен и духовным
подъемом. Правда, в широких кругах эти религиозные течения известны весьма недостаточно;
однако по существу они бесконечно значительнее, чем судьба всех Балканских государств,
вместе взятых. И, вспоминая об этом изумительно богатом последствиями годе,
отныне и навеки будет волноваться верующее сердце, отныне и навеки будет влечься
к нему созерцательный ум.
Подобно
волне землетрясения, по всей вселенской Церкви, от Юга и до Севера, от Востока
и до Запада прошло негодование, когда несколько легкомысленных и подпорченных
рационализмом монахов дерзнули посягнуть на тот нерв Церкви, в который сходятся
все прочие нервы, — на тот догмат, в отрицании которого содержится отрицание
всех догматов, — на ту святыню, которая лежит в основе всех святынь церковных.
Если бы ничего не было еще, кроме этой волны 1912-го года, то и ее одной
было бы слишком достаточно, чтобы как картонные домики сбросить построения хулителей
Церкви, говорящих о ее мертвенности, о ее казенности, о ее застое, о ее параличности.
Церковь слишком велика, чтобы трогаться из-за пустяков. Неподвижность ее — неподвижность
величия, а не смерти. Но когда покушение на нее задевает ее за живое — она являет
свою мощь, она содрогается. Так содрогнулась она и ныне, когда со всех концов,
— из глухих провинциальных монастырей и из столиц, — у полуграмотных подвижников
и у образованных деятелей вырвался из груди общий крик негодования и возгорелось
дружное желание вступиться за дражайшее достояние верующего сердца. Отступники
Церкви требовали знамения — да умолкнут: вот оно!
Но
где центр этой волны? — Да где же, как не в исконной твердыне православия? где
же, как не в том историческо-беспримерном и неподражаемом государстве монахов,
которое живет наперекор законам земных государств. На Афоне не пахнет ни дымным,
ни бездымным порохом и провинившиеся граждане его наказуются не тюрьмами, а
лишением сладкого дыма духовного отечества. Но этим мистическим облаком — тим
священным покровом Пречистой Девы — искони веков приосеняется он, как действующий
кратер, и на протяжении всей истории человечества, от времени до времени, бурно
напоминает дольним о горнем. — Холодно в культурном мире. Непроницаемая каменная
кора рационализма затягивает огненный океан благодати всюду. Но вечно кипит
в Уделе Пресвятой и Пречистой Матери Божией та и опаляющая и Таким-то духовным
извержением, в ряду других, явился 1912-й год. Прозвание же ему, — если позволительно
предвосхитить историю, которая лишь имеет быть написанной в будущем, — прозвание
ему:
"Год
афонских споров об Имени Иисусове".
Услышав
это соблазнительное слово, читатель, вероятно, поспешит осудить и книгу, ныне
издаваемую, и редакцию, ее издающую. "Новое старообрядчество!" "Невежество!"
"Монашеское изуверство!" "Не учились в семинарии!" "Смешивают!"
"Не понимают!" "Путают!" и т. п. — вот образчики тех суждений,
которые приходится слышать от большинства интеллигентствующих. А большинство
это знает из всего этого движения только то, что где-то на Афоне перессорились
или даже, — по другому варианту, — передрались какие-то невежественные монахи
и изгнали почтенного игумена за обличение их сумасбродных взглядов на Имя Иисусово,
И действительно, знать много более того об этих спорах доселе было трудно: со
стороны противников "достопоклоняемости". Имени Иисусова, прозванных
"имеборцами", во всей истории этих споров, кроме рационалистического
душевного склада, легкомысленной ругани и клеветнических наветов, доселе ничего
показано не было; защитникам же Божественности Имени Иисусова, или, так называемым,
"имепоклонникам" или "имеславцам", приходилось молчать,
ибо уста их были заграждены стараниями их противников...
И
вот, под гром Балканской войны, под свист и шипение имеборческих пасквилей,
при позорном молчании богословских журналов, шли споры по вопросу, работа над
которым составляет церковное послушание нашего времени, и отрицание которого
обнаруживает, "коего духа" отрицатели.
Внешняя
же история споров такова:
Вероятно,
не всем читателям известно, что дух древнего отшельничества Фиваиды и Сирии,
— дух так мало подходящий к нынешнему деловитому веку, вовсе не умер, но жив
и действенен даже доныне. Северный и южный склоны Западного Кавказа процветают
многочисленными отшельниками, живущими то в одиночку, то по два, по три на значительных
друг от друга расстояниях. Среди них самый крупный — схимонах Иларион. Этот-то
80-ти летний старец и послужил поводом к всестороннему церковному обсуждению
существеннейшего вопроса нашего времени.
Прожив
21 год на Старом Афоне, он, с благословения старцев, решил посвятить остаток
дней своих отшельническому созерцанию, и в течение многих лет подвизался на
северном склоне Кавказских гор. Достояние своего духовного опыта он изложил
в книге "На горах Кавказа", по литературной форме представляющей
собою жизнеописание автора и некоторых других кавказских отшельников, а по существу
— раскрывающей основы умного делания, т. е. излагающей учение об "Иисусовой
молитве". Опираясь на древних отцов и из современных церковных писателей
в особенности на о. Иоанна Кронштадтского и на епископа Игнатия Брянчанинова,
схимонах Иларион выясняет в своей книге, что спасительность молитвы Иисусовой
— в привитии сердцу сладчайшего Имени Иисусова, а оно Божественно, оно — Сам
Иисус, ибо Имя неотделимо от именуемого.
Эта
книга, пропущенная духовной цензурой, которая не нашла в ней ничего предосудительного,
и одобренная многими тружениками духовного делания, однако осталась мало известною
в широких кругах церковного общества.
Через
некоторое время потребовалось 2-е издание той же книги, причем на это издание
дано было благословение одним из высокочтимых представителей русского старчества.
В связи с этим изданием и произошли главные волнения и наветы имеборцев. Но
это не помешало Киево-Печерской Лавре выпустить в конце 1912-го года ту же книгу
3-м изданием. Очевидно, и Лавра не нашла в ней ничего предосудительного. Вот
почему можно спокойно не считаться с осуждением ее архиепископом Антонием. К
тому же, сперва он грубо осудил книгу и автора ее, однако, как нам достоверно
известно, не читав книги и не зная автора. Затем, формально сблизив учение именепоклонников
с хлыстовством, он ставит знак равенства между учением о. Илариона и учением
хлыстов и пытается замарать позорным пятном уважаемого Старца, обвиняя его чуть
не в свальном грехе и объявляя все вообще движение "гнилью и сумасбродною
бессмыслицею впавших в прелесть мужиков".
***
Из
этого краткого очерка внешней истории споров об Имени Иисусове делается неоспоримою
настоятельная потребность в серьезном обсуждении волнующих тем, ибо то,
что было доселе в печати (кроме книги о. Илариона, послужившей поводом к спорам),
— никак не может быть признано таковым. Доселе ведь одним не была предоставлена
возможность говорить о том, во что они вникли, а другим не приходила в голову
мысль вникнуть в то, что они развязно осудили. Пора оставить книгу и личность
о. Илариона в покое и по существу разобраться в пререкаемом учении о Божественности
Божиих Имен вообще и Имени Иисусова — в частности.
Можно
допустить, что история споров связана со многими местными и личными столкновениями
и даже дрязгами: так бывало в истории и других догматических споров. Но все
это — временное и преходящее. А вечно и непреходяще самое выяснение основного
вопроса. Возможно, что эти личные столкновения промыслительно оказались поводом
к выяснению столь существенного вопроса об Имени Божием. Как вопрос центральный,
он связывается со всеми точками духовного понимания жизни, со всем кругом веры,
и нет ничего удивительного, что в поднявшихся спорах выступают мотивы разнообразнейшие.
Для церковного решения их требуется весьма немало подготовительных специальных
трудов. Настоящее же сочинение, первый из таких трудов, начинает с того, с чего
и должно начинать, — с Библейского и святоотеческого учения об Именах Божиих.
При этом оказывается, что учение имепоклонников о Божественности Имен Божиих
есть не что иное, как частный случай общего Церковного учения о Божественности
всякой энергии Божией. Но возникающие при этом философские, психологические
и пр. вопросы Автором сознательно обходятся. Так, конечно, и следует начинать.
Однако, данная работа не только не исключает, но и требует новых работ, в ином
направлении, в иных срезах расследующих те же вопросы.
Сознавая,
что сочинение иеросхимонаха Антония, по способу обсуждения вопроса, наиболее
подходит для лиц монашествующих и, быть может не везде будет вполне понятно
лицам, в миру живущим, редакция надеется, с Божией помощью, выпустить и нечто
иное, более подходящее для этих последних.
В
заключение должно сделать одну оговорку. "Апология веры" писалась
на Афоне, в самый разгар войны и ожесточенных споров, писалась, в виду необходимости
скорейшего появления ее, крайне спешно, при условиях вовсе не благоприятных
научным исследованиям. С другой стороны, и печатание велось быстрым темпом.
Сношения редакции с Автором, по дальности расстояния и по условиям военного
времени, были затруднительны и замедлены, так что не было возможности получить
решение Автора по тому или другому недоразуменному пункту.
Этою
спешкою появления книги объясняются некоторые внешние недостатки ее,
неточности и неясности, взять на себя устранение которых, без сношения с Автором,
редакция не считала своим правом. Но, несмотря на таковые недостатки, в общей
высшей оценке издаваемого труда редакция может опереться на авторитетный отзыв
о нем, принадлежащий перу одного из наиболее уважаемых и заслуженных богословов
нашей Родины. Вот текст отзыва, явившийся в качестве ответа на полу-официальный
запрос о нем Епископа, заинтересовавшегося "Апологией веры":
"Ваше
Преосвященство,
Высокочтимейший Владыка!
Весьма
внимательно и даже с большим удовольствием прочитал я присланные Вами тетради.
Веет духом истого монашества, древнего, подвижнического.
Дело,
конечно. совсем не так просто, как взглянул на него рецензент книги о. Илариона.
Корнями своими вопрос об Иисусовой молитве и имени Спасителя уходит к исконной
и доселе нерешенной, точнее — неоконченной, борьбе противоположностей идеализма,
или, что то же, реализма и мистицизма с одной стороны, — и номинализма, —
он же и рационализм и материализм, — с другой.
Простецы
из истых подвижников и не мудрствующие лукаво или опростившиеся богословы,
— как Игнатий Брянчанинов, еп. Феофан, о. Иван, — непосредственным опытом
и интуитивно постигли, как и ранее их многие отцы и подвижники постигали.
— истину, до коей ученым книжникам и философам приходится добираться с большими
трудностями и окольными путями схоластики и сложным процессом мышления.
Истое
христианство и Церковь всегда стояли на почве идеализма в решении всех возникавших
вопросов — вероучения и жизни. Напротив, псевдо- и антихристианство и инославие
всегда держались номинализма и рационализма.
Грани
истории номинализма: софисты и т. д. до Ницше. Это в философии, — а в Церкви:
распявшие Христа архиереи, евреи, Арий и т. д. до Варлаама и графа Толстого.
Грани
истории реализма: Сократ с Платоном... до Гегеля с его правою школою и Достоевского
— в философии и художественной литературе, — а в Церкви: Евангелие, Ап. Павел
и т. д. до Паламы и о. Ивана.
Идеализм
и реализм лежат в основе учения о единосущии и троеличности Божества, о богочеловечестве
Спасителя, о Церкви, таинствах, особенно Евхаристии, иконопочитании и д.
И я лично
весь на этой стороне. Рецензент Рус. Инока и апологет о. Илариона говорят
не одно и то же, а совсем противоположное. И апологет далеко не невежественен
и неразвит формально, — напротив, полное невежество и непонимание дела на
стороне рецензента.
Вам известны,
конечно, продолжительные и ожесточенные споры средневековья между номиналистами
и реалистами, когда делались и попытки к их примирению, — но неудачные, ибо
они стояли на совершенно предмету чуждой почве схоластики и рационализма.
В Церкви
Восточной споры Варлаамитов и Паламитов также не решили вопроса научно
и догматически, а только канонически, на поместных соборах.[1]
Но тут нужен не канон, а догмат, коего пока нет.
Мне суждена
жизнь в эпоху подъема волны материалистическо-рационалистическо-номиналистической.
Но есть признаки начинающегося возрождения идеализма-реализма-мистицизма.
Притом
предстоит всероссийский собор.
В виду
всего этого вопрос, поднятый афонитами, я считаю весьма своевременным для
всеобщего обсуждения. Он может дать повод к перенесению спора об имени Иисус
в общедогматические области и вызвать попытки, если не к решению, то хотя
к уяснению исконного спора (надо заметить, что эти противоположности есть
и в искусстве — живописи, музыке, литературе, — да и вообще во всем — в том
или ином виде).
В частности об имени Иисус и о молитве Иисусовой.
Отеческие
цитаты непререкаемо удостоверяют истинность и православность защитников имени
и молитвы. Некоторые, быть может, неудачны и представляют натяжки. — Можно
найти другие и в большем числе. Но правда на стороне апологета.
Главными
местами из Н. З. могут служить Мф. 7:22 и особенно Лк. 9:49–50. Догматически
я понимаю и толкую так:
Слово
всякого языка и во всяком виде, пока оно живо и произносится устно или умно,
есть, конечно, отражение идеи и иметь реальную связь с идеей, — а идея
— тоже реальность, имеющая и ипостасное бытие. Пример: рус.
"благо", евр.  , греч.
, греч.
 и т. д., — то слова, — затем
"идея-благо", и наконец "Благо-Бог, триипостасный". Также
и имя "Иисус" евр., а рус. "Бог-спасение", или "Бог-Спаситель",
или "Богочеловек", — идея Богочеловека и ипостась Богочеловека.
Спаситель Богочеловек может именоваться на бесчисленном множестве языков,
живых, мертвых и будущих, — и бесчисленное количество раз — телесно и духовно.
И все эти бесчисленные слова-имена имеют свою реальность и ипостасность, как
в произносящем субъекте-человеке, так и в произносимом объекте-Богочеловеке.
Кто бы, когда бы, как бы ни именовал Спасителя, именующий каждый раз вступает
в такое или иное отношение реальное к именуемому. Я хочу сказать: раз известное
слово-имя соединено с известною идеей и ее отражает в себе, то, пока эта связь
есть (а она не может не быть, ибо слово есть принадлежность существа разумного),
необходимо бывает и реально-ипостасное отношение субъекта-лица, произносящего
слово, к идее, коей носителем является объект — произносимый, тоже лицо. Таким
образом субъект (лицо, ипостась), произносящий слово "Иисус" или
"Богочеловек" или "Бог-Спаситель", — необходимо
вступает в то или иное отношение реальное к идее и ипостаси Богочеловека.[2]
и т. д., — то слова, — затем
"идея-благо", и наконец "Благо-Бог, триипостасный". Также
и имя "Иисус" евр., а рус. "Бог-спасение", или "Бог-Спаситель",
или "Богочеловек", — идея Богочеловека и ипостась Богочеловека.
Спаситель Богочеловек может именоваться на бесчисленном множестве языков,
живых, мертвых и будущих, — и бесчисленное количество раз — телесно и духовно.
И все эти бесчисленные слова-имена имеют свою реальность и ипостасность, как
в произносящем субъекте-человеке, так и в произносимом объекте-Богочеловеке.
Кто бы, когда бы, как бы ни именовал Спасителя, именующий каждый раз вступает
в такое или иное отношение реальное к именуемому. Я хочу сказать: раз известное
слово-имя соединено с известною идеей и ее отражает в себе, то, пока эта связь
есть (а она не может не быть, ибо слово есть принадлежность существа разумного),
необходимо бывает и реально-ипостасное отношение субъекта-лица, произносящего
слово, к идее, коей носителем является объект — произносимый, тоже лицо. Таким
образом субъект (лицо, ипостась), произносящий слово "Иисус" или
"Богочеловек" или "Бог-Спаситель", — необходимо
вступает в то или иное отношение реальное к идее и ипостаси Богочеловека.[2]
То же
надо сказать и обо всех вообще именах, например "сатана, ангел, угодник
Божий" и т. д. Возьмем "о. Иван Кронштадтский". Ранее отца
Ивана этого имени не было, — оно дано именно ему, выражает его идею и отражает
его личность. Быть может, оно и умрет когда-нибудь и совсем исчезнет из человеческой
речи. Но пока оно живо и произносится разумными существами, оно необходимо
ставит произносящего в то или иное отношение, притом, конечно, реально, поскольку
реально произносят и произносили, — к реально сущей в лице о. Ивана идее,
выражаемой его именем, — т. е. поскольку и кто называет о. Ивана и сам о.
Иван суть реальности и ипостаси.
Так —
каждое имя и всякое слово.
Затем
я не вхожу в специальности гносеологии и онтологии этого вопроса. Ибо и из
сказанного, думается мне, видно, что глумящиеся над именем Иисус, в
душе ли, устно ли, на записках и т. д. — все равно, — ведь знают, чтo выражает
имя и к кому оно относится, — следовательно, необходимо глумятся и над Самим
Спасителем. Да и не могут не знать, и никакими софизмами нельзя очистить этого
глумления — только покаянием. Поэтому-то хула на Духа не прощается, и за всякое,
даже праздное, слово человек даст ответ. И никто, говорящий в Духе Святом,
не говорит: анафема Иисус (вообще Иисус, без всяких определений, — ибо с момента,
как 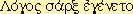 , есть только один истинно-Иисус
— Спаситель Богочеловек), и никто не может сказать: Господь Иисус, только
Духом Святым. Глумились над защитниками имени Иисус и молитвы Иисусовой, конечно,
по недомыслию, а вернее — по отсутствию истинно-христианского чувства,
которое всегда может указывать истинным христианам верный путь во всех соблазнах
и недоумениях, — что и видим в монахах-простецах.
, есть только один истинно-Иисус
— Спаситель Богочеловек), и никто не может сказать: Господь Иисус, только
Духом Святым. Глумились над защитниками имени Иисус и молитвы Иисусовой, конечно,
по недомыслию, а вернее — по отсутствию истинно-христианского чувства,
которое всегда может указывать истинным христианам верный путь во всех соблазнах
и недоумениях, — что и видим в монахах-простецах.
Ведь
мы живем и движемся и существуем в Боге — Отце, Сыне и Духе, — в Богочеловеке-Спасителе.
Не только наше внесознательное бытие, не только наша духовно-телесная жизнь
в Нем, — но в Нем и наши движения, — телесные и духовные. Наша мысль есть
движение духа, наше слово есть духовно-телесное движение. И это движение может
ставить нас в более тесное единение с Богом, как бы дает нам осязать Бога
(Деян. 17:27-28). Поэтому произносящий молитву Иисусову реально соприкасается
с Самим Богом Иисусом, — как Фома, осязает его духовно.
К сожалению,
не располагаю временем к более подробному раскрытию этого важного предмета".
***
Этим
письмом мы закончим наши разъяснения по данному вопросу.
1913.III.10.
Неделя преподобного и богоносного
отца нашего Григория Паламы,
митрополита Солунского.
Примечания
монахини Кассии (Сениной):
[1]
Эти поистине позорные слова "одного из наиболее уважаемых и заслуженных
богословов" предреволюционной России, профессора Московской Духовной Академии
(см. Письмо М. А. Новоселова
к NN) М. Д. Муретова — о том, что в споре св. Григория Паламы с варлаамитами
обсуждавшийся вопрос "догматически" не был решен, — наглядно показывают,
в каком состоянии находилось в то время "официальное" русское богословие.
[2]
Очевидно, о. Павел Флоренский, написавший это редакционное предисловие к "Апологии"
и поместивший в него письмо М. Д. Муретова, и сам придерживался подобной ереси
— истолкованию имен в смысле Платоновских идей.
![]() , греч.
, греч.
![]() и т. д., — то слова, — затем
"идея-благо", и наконец "Благо-Бог, триипостасный". Также
и имя "Иисус" евр., а рус. "Бог-спасение", или "Бог-Спаситель",
или "Богочеловек", — идея Богочеловека и ипостась Богочеловека.
Спаситель Богочеловек может именоваться на бесчисленном множестве языков,
живых, мертвых и будущих, — и бесчисленное количество раз — телесно и духовно.
И все эти бесчисленные слова-имена имеют свою реальность и ипостасность, как
в произносящем субъекте-человеке, так и в произносимом объекте-Богочеловеке.
Кто бы, когда бы, как бы ни именовал Спасителя, именующий каждый раз вступает
в такое или иное отношение реальное к именуемому. Я хочу сказать: раз известное
слово-имя соединено с известною идеей и ее отражает в себе, то, пока эта связь
есть (а она не может не быть, ибо слово есть принадлежность существа разумного),
необходимо бывает и реально-ипостасное отношение субъекта-лица, произносящего
слово, к идее, коей носителем является объект — произносимый, тоже лицо. Таким
образом субъект (лицо, ипостась), произносящий слово "Иисус" или
"Богочеловек" или "Бог-Спаситель", — необходимо
вступает в то или иное отношение реальное к идее и ипостаси Богочеловека.[2]
и т. д., — то слова, — затем
"идея-благо", и наконец "Благо-Бог, триипостасный". Также
и имя "Иисус" евр., а рус. "Бог-спасение", или "Бог-Спаситель",
или "Богочеловек", — идея Богочеловека и ипостась Богочеловека.
Спаситель Богочеловек может именоваться на бесчисленном множестве языков,
живых, мертвых и будущих, — и бесчисленное количество раз — телесно и духовно.
И все эти бесчисленные слова-имена имеют свою реальность и ипостасность, как
в произносящем субъекте-человеке, так и в произносимом объекте-Богочеловеке.
Кто бы, когда бы, как бы ни именовал Спасителя, именующий каждый раз вступает
в такое или иное отношение реальное к именуемому. Я хочу сказать: раз известное
слово-имя соединено с известною идеей и ее отражает в себе, то, пока эта связь
есть (а она не может не быть, ибо слово есть принадлежность существа разумного),
необходимо бывает и реально-ипостасное отношение субъекта-лица, произносящего
слово, к идее, коей носителем является объект — произносимый, тоже лицо. Таким
образом субъект (лицо, ипостась), произносящий слово "Иисус" или
"Богочеловек" или "Бог-Спаситель", — необходимо
вступает в то или иное отношение реальное к идее и ипостаси Богочеловека.[2]![]() , есть только один истинно-Иисус
— Спаситель Богочеловек), и никто не может сказать: Господь Иисус, только
Духом Святым. Глумились над защитниками имени Иисус и молитвы Иисусовой, конечно,
по недомыслию, а вернее — по отсутствию истинно-христианского чувства,
которое всегда может указывать истинным христианам верный путь во всех соблазнах
и недоумениях, — что и видим в монахах-простецах.
, есть только один истинно-Иисус
— Спаситель Богочеловек), и никто не может сказать: Господь Иисус, только
Духом Святым. Глумились над защитниками имени Иисус и молитвы Иисусовой, конечно,
по недомыслию, а вернее — по отсутствию истинно-христианского чувства,
которое всегда может указывать истинным христианам верный путь во всех соблазнах
и недоумениях, — что и видим в монахах-простецах.